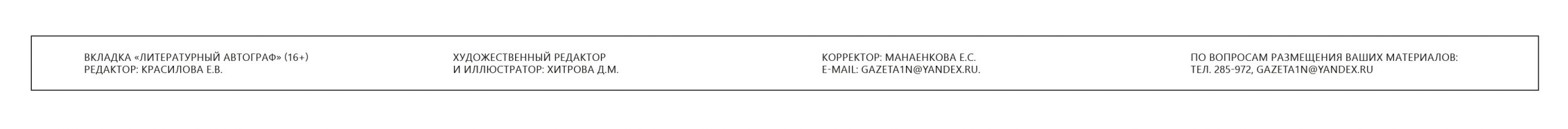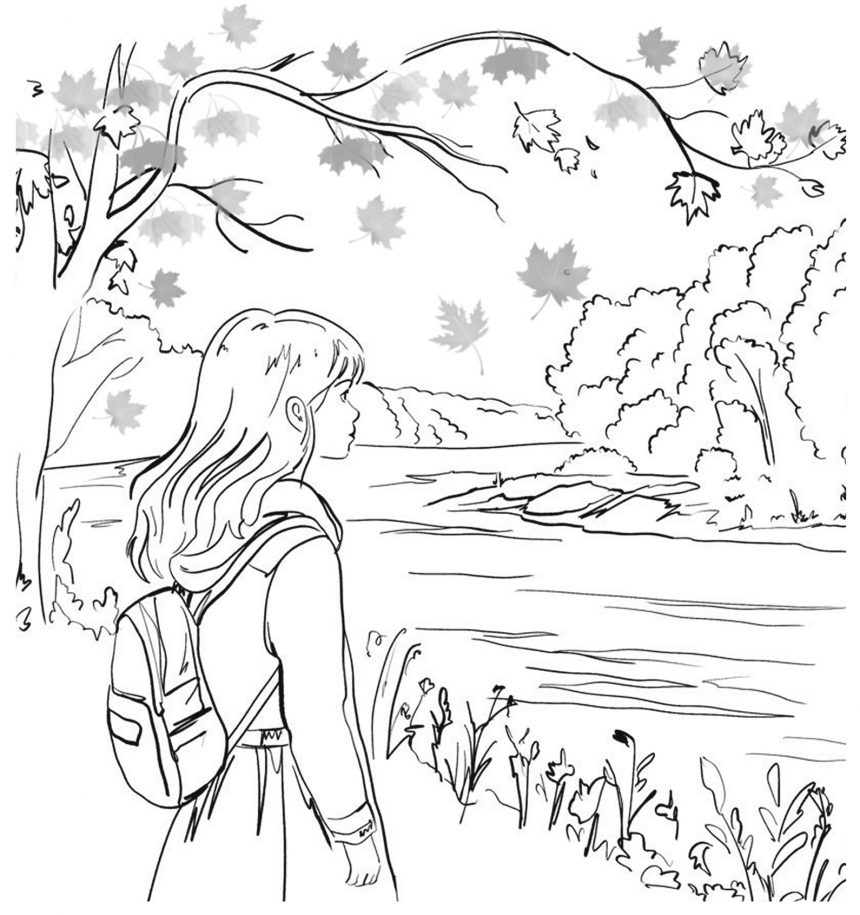10 октября — Всемирный день психического здоровья. По данным ВОЗ, более 1 млрд человек, то есть каждый восьмой, живёт с нарушением ментального здоровья. Причины — информационная перенагрузка, социальные потрясения.
Ментальное здоровье — тема достаточно закрытая для обсуждения даже в современном обществе. Мы не стесняемся говорить о простуде или сахаре в крови, но боимся рассказать о тревожности, депрессии, даже расстройстве сна и уж тем более о более глубоких проблемах.
А как живут люди с ментальными нарушениями? Что их тревожит? Что даёт им радость? Какова их жизнь? Об этом в рассказах нашего автора прозаика-новеллиста Александра Крамера. Его рассказы грустные, но светлые. Они дают надежду и утешают. Он не делает выводов за читателя, не учит, просто делится своими наблюдениями. И кажется, если каждый из нас получит толику внимания и сочувствия, может, следующий день станет светлее?..
Александр Крамер
Родился в Харькове в 1953 году. Окончил Харьковский политехнический институт. Участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В 1998 году переехал с семьёй в Германию.
Пишет со школы. В Харькове вышло несколько поэтических публикаций. В Германии начал писать прозу. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Веси», «Дарьял», а также в периодических изданиях Германии, Канады, США.
Это вторая публикация Александра в газете «Первый номер».
Его рассказы входят в ряд антологий, так, в 2020-м они вышли в «Антологии русской литературы XXI века» (16+), в 2024-м — в сборнике фантастики «Формула XXI» (12+).
Публикуем его рассказы из цикла «Другие» (16+).
Кики
Его зовут Кики. Нет, Кики — это не настоящее имя. Так попугайчика звали, который жил в его комнате, ещё когда он был маленький, ещё когда родители были живы. Попугайчик умел говорить и по сто раз на дню произносил своё имя, вот он его и запомнил. Никаких других слов, к сожалению, больше так и не выучил.
Когда не стало родителей и он вынужден был переселиться в дом для инвалидов, то по всякому поводу произносил, да и произносит любимое слово — так оно к нему вместо имени и прилепилось.
Кики маленький, кругленький и почти как две капли воды похож на своих сородичей из племени даунов. Впрочем, мы японцев с китайцами тоже друг от друга не очень-то отличаем, но это я так…
Кики добрый. Улыбается целыми днями и готов всегда выполнить всё, что бы ни попросили.
Кики трудолюбивый. Он работает в маленьком цехе, где собирает коробочки из картонных заготовок. Сто коробочек, двести коробочек в смену, а то и все триста. Неделями, месяцами, годами… Уму просто непостижимо, сколько коробочек наберется за все эти годы, но его привели однажды сюда, посадили, показали, что надо делать, — и он собирает.
Кики прилежный и аккуратный. Всё, что нужно ему для работы, стоит у него на столе в строго определённом порядке; стоит хоть чуточку этот порядок нарушить, он тут же это заметит, тщательно всё поправит и лишь после этого продолжит работать.
Кики собирает коробочки и ни на что почти не отвлекается. Разве что на пару минут, когда, например, бабочка в цех залетит, или зайдёт незнакомый кто, или… Впрочем, всё достаточно однообразно, поводов для отвлечения не слишком-то много, а так иногда бывает приятно на что-нибудь переключиться, когда ты день за днём собираешь и собираешь одни и те же коробочки.
Периодически, раз, а то и два раза за день, коробочки эти Кики осточертевают, достают до печёнок прямо. Тогда он внезапно срывает с себя очки, швыряет их на пол (благо пол с мягким покрытием, и стёкла из пластика не разбиваются), затем что есть силы швыряет в пространство очередную коробочку и начинает вопить на одной- единственной ноте: «Ай-яй-яй-яй-яяяй…». Замолкнет на секунду — и снова: «Ай-яй-яй-яй-яяяй…». И снова… И кулаками размахивает. И слёзы текут по щекам.
Так кричит, бедолага, пока не устанет ужасно или пока, с ухищреньями всякими, на него снова не наденут очки. Тогда Кики стихает, сникает, голова опускается, и он задрёмывает на считанные минуты. Очнётся и вновь как ни в чем не бывало начинает очередную коробочку складывать.
Мне однажды захотелось понять, что же это такое с ним происходит. Я нашёл себе стол, принёс ящики с заготовками и стал, как и Кики, из заготовок коробочки складывать. Какое-то время было мне даже и интересно: я старался работать как можно быстрее, точнее, даже соревнование сам с собою устроил. Но развлечением это оставалось недолго. Стало надоедать. И чем дальше, тем больше. И когда через неделю Кики заверещал в конце смены свёе «ай-яй-яй», мне вдруг непреодолимо захотелось швырнуть всё к чёртовой матери и заорать вместе с ним что есть силы. Больше я после этого на себе эксперименты не ставил.
До чего же хорошая штука — свобода выбора. Жаль, что Кики об этом никогда не узнает.
Сергей
Они приехали из глухой казахстанской деревни — муж с женой и мальчик с синдромом Дауна. Муж в совхозе трактористом работал, а жена бухгалтером там же; и когда у них такой необычный, с азиатским разрезом глаз, ребёнок родился, решил тракторист почему-то, что жена с председателем совхоза — казахом — ему изменила, со всеми вытекающими из этого для жены последствиями.
Доказательств неверности жениной не было, разумеется, никаких, но так мужика нелепое предположение проняло, что уже ничьи доводы на беднягу не действовали. Даже когда местный фельдшер ему объяснил, что ребёнок родился у них, к сожалению, больной, неполноценный, и болезнь эта лечению сегодня не поддаётся, что в нормальную школу ходить никогда не будет, что долго с болезнью такой не живут и разрез глаз у ребёнка — тоже от этой болезни, из-за чего она раньше «монголизм» называлась, даже тогда ревнивец-тракторист не поверил, решил, что председатель с фельдшером сговорились и хотят вокруг пальца его обвести. Но кое-что важное для себя он из беседы с медиком вынес: в школу ходить не надо, жить долго не будет. На основании этих сведений и принял решение дикое, невероятное просто: непонятно чьего ребёнка (кому охота, чтоб в деревне над тобой насмехались) из дома больше не выпускать, в дом посторонних тоже не пускать никого, ничему пацана не учить, ждать, когда окочурится. Точка.
Когда эта семья эмигрировала из Казахстана в Германию, мальчик-даун совсем большой уже был — лет четырнадцати-пятнадцати. Разговаривать он не умел, мычал только. Ел руками. Вместо зубов изо рта чёрные пеньки торчали. На улице у него начиналась истерика, и он только в каком-нибудь замкнутом, не слишком освещённом пространстве успокаивался. На незнакомых людей, точно зверь, набрасывался, мог покусать, исцарапать. При виде машин впадал в ярость неописуемую. В общем, был чем-то вроде Маугли, превратившегося в зверёныша среди человеческих особей.
В Германии не учить ребёнка в школе запрещено. Даже если ребёнок неполноценный. Даже если неполноценный, слепой и полностью парализованный. Нет никаких исключений! Во-первых, вы не будете получать от государства пособие — «детские деньги», а во-вторых, вас накажут согласно гражданскому законодательству.
Поэтому после приезда дикий подросток-даун попал наконец в специальное учебное заведение. Каждый день за ним домой приезжал микроавтобус и забирал его в школу, а вечером привозил обратно. Дело это было непростое и даже опасное. Пока его заводили, как быка упирающегося, брыкающегося и ревущего, в автобус и там ремнями безопасности к креслу пристёгивали, семь потов сходило с шофёра и помощника, много чего повидавших и умевших. К непростой этой операции хотели даже привлечь родного отца. Его, безработного, в штат обещали зачислить и зарплату платить, да он отказался.
С тех пор как я об истории этой узнал, три года прошло, и событие среди прочих в памяти затерялось. А недавно гуляли мы в парке, который находится на территории заведения для душевнобольных и одновременно городу принадлежит, и встретили сильно повзрослевшего, растолстевшего больше прежнего дауна-переселенца — его нетрудно было узнать по длинному тонкому шраму на правой щеке. Он катил важно на взрослом трёхколесном велосипеде с толстой сумкой через плечо; я окликнул его, поздоровался. Он остановился, осклабился в фарфоровой улыбке и произнёс важно и вполне членораздельно: «Их бин Зергей. Их арбайте хир (Я работаю здесь)», — и покатил себе дальше.
К слову сказать, дауны до семидесяти лет теперь запросто доживают.
Музыкант
Когда одним и тем же автобусом ездишь изо дня в день, к одному и тому же времени, то большинство пассажиров узнавать начинаешь и даже здороваешься. Вот мы с ним таким образом около года и сталкивались.
Он где-то раньше садился. Когда я входил, он уже сидел на своём излюбленном месте в центре салона и, отрешённо уставившись перед собой, слушал какую-то музыку.
Был он ужасно худой, нескладный, щёки запавшие, узкие губы совершенно бескровные, жидкие волосы висели длинными прядями и редко бывали расчёсаны, а в руки въелось какое-то бурое вещество, с которым он, видимо, постоянно работал; и всегда у него на шее висел яркий плейер, а в ушах торчали наушники.
Спокойно он не сидел ни минуты, что-то всё время беззвучно напевал, осторожно, боясь зацепить соседа, водил перед собою руками — дирижировал, даже подпрыгивал несколько от возбуждения; при этом некрасивое длинное лицо его постоянно менялось: он улыбался — восторженно, осторожно, саркастически и вдохновенно… он гневался и печалился, отчаивался и вновь надеялся… Лицо его отражало бесконечную гамму чувств и их всевозможных оттенков. Я за это про себя называл его «музыкантом».
Дважды мне удалось музыканта увидеть вне автобуса. Первый раз он шёл с какой-то седой женщиной — такой же, как он, худой и к тому же невероятно высокой. Плейера в этот раз на нём не было, и, может быть, потому музыкант выглядел жалким, чем-то невероятно напуганным: голова его была низко опущена, бедняга шарахался от прохожих, вздрагивал, если вдруг к нему кто-то нечаянно прикасался, двумя руками цеплялся за руку худой великанши, зябко жался к ней… Так карманная собачонка, спущенная на землю, без всякого повода в страхе жмётся к ноге хозяйки.
А второй раз музыкант был один, и родной его плейер был с ним. Двигался музыкант довольно плохо: ноги при ходьбе заплетались, тело раскачивалось, голова на худой длинной шее моталась, как маятник… Но при этом он даже не шёл, а летел, глаза были полузакрыты, руки двигались широко и свободно, точно он управлял невероятно огромным оркестром; ещё, казалось, он пел — восторженно, упоённо, и лицо его при этом освещалось ликующей, победной улыбкой.
День был субботний, центр кипел праздным, хаотично шатающимся народом, но ему было всё равно: в своём самозабвении он люд этот просто не замечал; он врезался в него, как форштевень врезается в воду, и толпа, как вода, расступалась, не в силах устоять перед этим напором, перед этой энергией всепоглощающего вдохновения.
И я поймал себя вдруг на том, что завидую музыканту, завидую остро тем удивительным чувствам, которые он, должно быть, теперь испытывает. Правда, должен признаться, что зависть моя продолжалась всего одно только микроскопическое мгновение.
Нинель и Ираклий
Когда-то она была очень красива! Удлинённое лицо обрамляли волнистые волосы цвета гречишного мёда, глаза были светло-зелёные, колдовские, а веснушки придавали лицу чудесную прелесть и просто сводили с ума. А потом она заболела. Так же, как и брат, которого теперь уже нет. Болезнь неумолимо заковывала её тело в панцирь, почти сразу отняла возможность ходить, а теперь уже даже руки двигались еле-еле. Недуг прогрессировал, но происходило всё мучительно медленно, и каждый новый день нёс новую, невыносимоую боль; никто во всём мире ничем не мог ей помочь.
Чтобы не оставаться всё время одной и хоть как-то отвлечься от боли, она попросилась на работу в маленький цех предприятия для инвалидов, где укладывала какие-то инструкции на дно картонных коробочек — это она могла пока ещё делать. Здесь они и познакомились.
В равнодушной своей жестокости природа дала ему силу и красоту, а разум отняла почти весь: он не разговаривал, не читал, не писал, но понимал и мог делать довольно много. И работа в прачечной была у него, по меркам этого заведения, сложная и ответственная.
А тут он её увидел, и с ним что-то случилось — непонятное, необъяснимое, что оказалось сильнее ущербного разума, выше издевательской воли природы. Будто душа его непонятным образом разглядела в этом бесплотном, неподвижном почти существе с реденькими тусклыми волосиками, ввалившимися щеками и узким беззубым ртом — изящную, удивительную красавицу, какой была она множество лет назад, и прикипела к ней, и больше ни есть, ни пить, ни дышать без неё не могла.
Он носил в кошельке её фотографию, ту, где она сидит в кресле, протягивает к нему руки и улыбается, и всем подряд — знакомым и незнакомым — фотографию эту показывал. Подойдёт, достанет бережно из портмоне, подержит недолго у вас перед глазами, будто жалуясь, разведёт руками недоумённо и пойдёт, сокрушённо качая кудлатой большой головой.
Стоило выпасть свободной минуте, как он немедленно шёл в упаковочный цех, к её столику. Подойдёт, снимет с неё пепельный паричок (не любил отчего-то), натянутый, точно шапка, до самых бровей, и гладит, гладит по голове, потом поцелует осторожно бескровные губы и пойдёт по своим делам.
На этой работе, как и на всякой другой, людям положен отпуск. Ну, и ему дали отпуск, две недели сказали на работу не приходить. Но он, к удивлению многих, всё равно приходил каждый день, точно к началу рабочего дня, и стоял неподвижно у двери, и подолгу, неотрывно смотрел на неё.
С тех пор, что он появился, жизнь изменилась так сильно! Стоило ей его только увидеть, только почувствовать его приближение, как на серых щеках проступала бледная краска, на бескровных губах появлялось подобие слабой улыбки, боль отступала, и она вся подавалась ему навстречу.
Какое же это необыкновенное счастье, когда есть замечательный друг, которого можно попросить о чём только угодно. Он часами катал её по дорожкам парка, осторожно кормил мороженым из ложечки, водил в кино, гулял с ней по городу, завозил в магазины и безропотно ждал, пока она насладится чудесным видом нарядной одежды, обуви, украшений… Боже мой, сколько же удовольствий и радостей пришло вместе с ним! Изредка они даже отправлялись в маленькое путешествие: он закатывал её в электричку, и они ехали, ехали… Он даже домой к ней заходил иногда, но только вёл себя очень странно: сядет в низкое кресло, упрётся локтями в колени, обхватит лицо ладонями и сидит неподвижно часами, смотрит не отрываясь, не дыша, а потом встанет вдруг и уйдёт; даже не поцеловал её дома никогда, ни единого раза.
Работа — это работа, от нее устаёшь, особенно когда неподвижно сидишь в инвалидном кресле и даже позу переменить нет ни малейшей возможности. Когда эта усталость становилась невыносимой, она протягивала к нему худенькие, бессильные руки, и он немедленно, сломя голову спешил к ней на помощь. Поднимет из коляски, прижмёт к себе, как драгоценность, нежно и крепко, и ходит, и ходит кругами по цеху, будто танцует, а она положит голову к нему на плечо, обнимет за шею и улыбается тихо, и глаза сияют, будто два тихих, чудесных огня, будто два тихих, чудесных, уже нездешних огня.
Тина
Видели ли вы когда-нибудь, как Тина здоровается? Ах, не видели! Тогда вам непременно нужно это увидеть, непременно.
Комната, где складывают инструкции для берушей, довольно большая. В ней сидят человек двадцать, каждый за своим столиком. У Тины тоже есть такой столик, он стоит у окна, прямо возле входа, но она никогда не сядет за него сразу, а сначала остановится в дверях и надменным, всевидящим взором оглядит помещение — все ли на месте. Затем не спеша, с достоинством высокородной дамы подойдёт к каждому, небрежно, снисходительно даже, протянет крошечную полную ручку и голосом еле слышным, расслабленным, с интонацией высокомерной, даже презрительной несколько… нет, не произносит, выдавливает: «Тина. Здравствуйте».
Да и как ещё можно с вами здороваться и к вам относиться, если вы даже не помните, что ели на завтрак первого мая прошлого года. И вообще, что вы помните?! Пять дней рождений, десять праздников? А дни рождения всех, кто с вами знакомился когда-либо? А все поездки за город в мелочах и подробностях? А где вы находились… Да что с вами, слабопамятными, бе́з толку разговаривать.
В столовой у Тины своё персональное место. Другие могут сидеть, где хотят, но она — Тина — должна сидеть только здесь и ни за что не потерпит, чтобы её права ущемлялись; и, если кто ненароком займёт её место, мгновенно превращается в фурию. Её полное, надменно-робкое личико багровеет, она вопит что-то нечленораздельное, щёки прыгают, губы дёргаются, руки грозно молотят воздух, даже может ударить.
Здесь к такому поведению не привыкли, поэтому Тина всегда одна-одинёшенька, с ней даже не разговаривают, а вот напугать могут запросто, чтобы хоть как-то отомстить за противный характер. Напугать её очень просто. Достаточно крикнуть: «собака», как Тина приходит в ужас, забивается в дальний угол, дрожит там и плачет. А уж вида живой собаки совсем не выносит, и на прогулке её нужно крепко-прекрепко держать за руку, потому что, если любую, даже карликовую, собачку случайно увидит, убежит — не догоните.
Зато работает Тина превосходно. Ни у кого нет такого рабочего места! Все разложено наилучшим, наирациональнейшим образом, в строгом порядке — неукоснительно соблюдаемом. Потому получается всё замечательно, с максимальной скоростью, чисто и аккуратно. Мало того, она ещё успевает в окно поглядывать и всё, что там происходит, запоминать до мельчайших, невероятных подробностей: кто, когда приезжал, что делал, с кем разговаривал, во что был одет… Проверять бесполезно: всё будто вгравировано в память.
Если вы как-нибудь попадёте в комнату, где складывают инструкции для берушей, Тина обязательно поднимется с места, подойдёт, в своей единственной и неповторимой манере протянет вам руку, назовётся и непременно спросит, как зовут вас и когда у вас день рождения. Если вы ей это расскажете, можете быть абсолютно уверены: теперь в этом эгоистичном и беспамятном мире есть кто-то, кто будет вас помнить всегда.
Если вы хотите поделиться своим мнением о прочитанном, пишите gazeta1n@ya.ru или можете позвонить: 285–972 — мы передадим автору.