Русский язык, безусловно, великий, богатый и могучий. Однако в каждом живом языке есть доля заимствований, которые мы употребляем в устной и письменной коммуникации, не осознавая, «откуда дровишки».
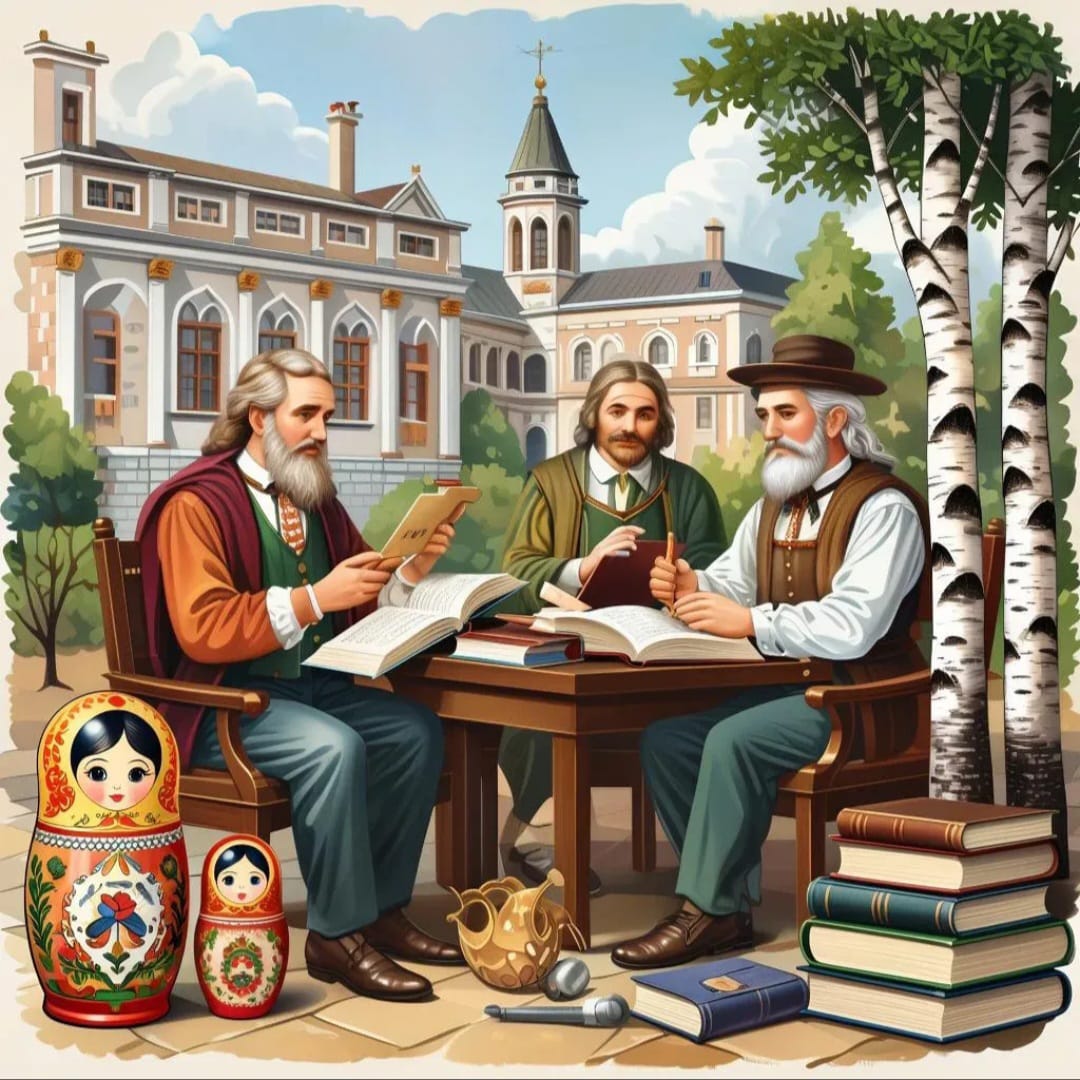 Смертельники и коровья вакцина
Смертельники и коровья вакцина
Среди моих сокурсников-филологов ходит много лингвистических шуток. Так, слово «антибиотик» у нас принято называть смертельником. И впрямь удивительно, что препарат, призванный бороться за жизнь, в буквальном переводе с греческого языка означает противоположное (anti — против, bios — жизнь). Антибиотик — это грибок, способный спасти человеку жизнь, убив армию микробов. Так было во время Второй мировой войны, когда пенициллин спас тысячи солдат от заражений и ран. Термин «антибиотик» предложил американский микробиолог Зельман Ваксман в 1942 году, тогда же пенициллин стали называть «лекарством-победителем».
А вот слово «вакцина» означает «коровья» в переводе с латыни. В XVIII веке, когда в Европе бушевала оспа, английский врач Эдвард Дженнер на основе коровьей оспы вывел препарат variola vaccinia (лат. variola — оспа, vaccinia — коровья, от vacca — корова). Он пытался доказать, что вирус коровьей оспы сможет защитить и человека от заражения оспой. Ему не поверили, повергли остракизму, и об открытии вспомнили только через 100 лет, когда уже французские исследователи изготовили препарат, содержащий вирус коровьей оспы для лечения оспы человеческой. Французы название «вакцина» закрепили на века, и оно по-прежнему имеет значение «коровья».
С кого взять нечего
Кто решается вакцинироваться, как известно, формирует иммунитет. Но привычное для нас слово «иммунитет» тоже не исконно русское. Чтобы узнать его этимологию, посетим Древний Рим. В казну Римской империи её граждане обязаны были вносить «мунитас» — так назывались налоги. От налогового бремени освобождались только люди с серьёзными нарушениями психики, физически немощные и нищие. Эти категории населения Древнего Рима получали иммунитет — официальный документ, позволяющий не платить налоги.
Разная шантрапа
Изначально шантрапой в России называли не скверных людей, пройдох, а просто неспособных петь в театрах. Когда создавали театры из крепостных актёров, то приглашали на прослушивание и крестьянских детей. Те, кто имел музыкальный слух, могли рассчитывать на вокальные партии. А тех, кто этим даром был обделён, называли «де шантрапа» (от французского de chanter pas — чтобы не петь).
Путь на сцену таким детям был закрыт, и они довольствовались лишь работой на конюшне или скотном дворе. А иных отправляли обратно к родителям. Но слово «шантрапа» сошло с театральных подмостков и вошло в русский речевой обиход, как нож входит в масло. Сначала шантрапой называли просто непригодного к какой-либо деятельности человека, ненужного в определённой сфере.
Однако публично слово «шантрапа» могло лететь лишь в социально незащищённых бедняков, поэтому оно стало ассоциироваться сначала с беднотой, а потом и с маргиналами.
Текст: Светлана Чеботарёва
Иллюстрация: ИИ

